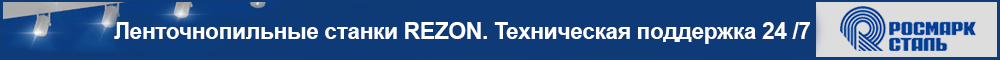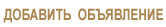Конкуренция – лучший инструмент повышения эффективности
Кирилл Андросов рассказал о работе совета директоров, необходимости изменения существующей системы регулирования железнодорожной отрасли, разработке новой стратегии ОАО «РЖД», а также о том, как ему удаётся совмещать председательство в совете директоров ОАО «РЖД» и «Аэрофлота».
Кирилл Андросов, председатель совета директоров ОАО «Российские железные дороги»
– Кирилл Геннадьевич, когда вам предложили стать председателем совета директоров РЖД, вы долго думали?
– Я думал. Я прекрасно понимал, что РЖД будут занимать очень большое количество моего времени, которое я решил посвятить развитию собственного бизнеса. Для меня это был не простой выбор. Но масштаб задачи был настолько интересен, что я поблагодарил за это предложение и согласился.
– Насколько быстро вам удалось вникнуть в проблемы отрасли?
– РЖД – это государство в государстве, если хотите, скелет, на котором строится вся наша добывающая и перерабатывающая промышленность. Мне было чуть проще вникнуть, потому что на посту заместителя министра экономики я курировал сферу железнодорожной реформы и на должности заместителя руководителя аппарата Правительства России курировал в том числе и транспортную отрасль. Поэтому ещё помнил, что задумывалось в начале реформы.
– Как вы оцениваете ход реформирования железнодорожной отрасли? Может быть, смотря на те результаты, которые есть, стоит подкорректировать какие-то моменты?
– Сейчас видны самые важные результаты реформы, и можно говорить, что большая часть из тех задач, которые правительство ставило, достигнуто. Цель реформы любой естественной монополии сводится к одному тезису – разделение монопольного и конкурентного видов бизнесов.
Это делается для того, чтобы в конкурентном сегменте появлялись новые игроки и стимулы к росту, повышению качества и снижению себестоимости. Конкуренция – за многие годы мир не придумал ничего лучше этого инструмента для повышения эффективности. В этом была и есть логика реформы.
Таким образом, на сегодняшний день точно два сегмента конкурентного вида деятельности выделено из естественной монополии РЖД. Это операторский бизнес с вагонами для перевозки грузов и машиностроительный сегмент, связанный с производством, ремонтом и обслуживанием всего спектра продукции транспортного машиностроения, которая необходима для функционирования системы РЖД. По моему мнению, в этих секторах основные цели достигнуты: в этих двух сегментах сформировано много частных игроков, каждый из которых всячески стремится оптимизировать свою деятельность, решён вопрос обеспечения притока необходимых инвестиций и, как следствие, обеспечены условия для дальнейшего технологического развития. Я думаю, что одним из основных итогов реформы, в части создания рынка независимых операторов подвижного состава, стало снижение ставок на вагоны, которое наблюдается на протяжении последнего полугода. В конечном счёте, от этого выиграли наши грузоотправители в масштабе всей страны.
Есть обратная сторона реформы. Мы выделили конкурентные сферы из структуры РЖД. Но вместе с этим мы выделили наиболее маржинально доходные сегменты. Машиностроение, вагонный парк и сопутствующий сервис способны работать на внешний рынок и не ограничены только инфраструктурой. Таким образом, внутри РЖД в основном остался только регулируемый сегмент – инфраструктура и локомотивы. Мы стали по структуре своих активов, но не по сути, инфраструктурной компанией. А во всём мире любая инфраструктурная компания регулируется. Есть регулятор в лице тех или иных органов исполнительной власти, который определяет стоимость наших основных услуг. Поскольку регулятор живёт в логике модели регулирования «затраты плюс», то размер прибыли, которую мы имеем право заработать на эксплуатации инфраструктуры, очень жёстко ограничен. Это означает, что РЖД существенно потеряли в доходности и постепенно превращаются в чисто инфраструктурную компанию.
Мы поставили перед собой и федеральными органами вопрос: какой должна быть новая модель нашего развития, что собой представляет продукт и услуга, которые оказываем, на чём способны зарабатывать, чтобы обеспечивать растущие потребности рынка в объёме и качестве услуг и собственные потребности в капитальных вложениях.
– У нас (агентство «ПРАЙМ». – Ред.) было интервью с президентом РЖД Владимиром Якуниным. Там также поднимали вопрос о реформе. Говоря о том, что можно было бы сделать по-другому, он высказал мнение, что стоило бы оставить у РЖД до 30% парка полувагонов. Как вы считаете, с этой точки зрения стоит обновить какие-то моменты реформы?
– Я не хотел бы через интервью вступать в заочную дискуссию с Владимиром Ивановичем. У нас есть масса возможностей делать это лично, в открытом диалоге. Касательно самой идеи передачи РЖД как публичному перевозчику на том или ином праве существенной части вагонного парка, а мы говорим в первую очередь об универсальном парке – парке полувагонов, хочу высказать следующее. В нашей 100-процентной собственности сохраняется ОАО «Федеральная грузовая компания», а это почти треть всего российского парка полувагонов, что, по моему мнению, позволяет через прямое управление ФГК решать задачи повышения эффективности организации перевозочного процесса.
Будут ли эти вагоны в аренде, собственности или на другом праве у РЖД – не так важно, как модель управления этим вагонным парком. Я считаю, что сохранение сегодня ФГК в собственности РЖД как минимум в среднесрочном горизонте правильное решение. Через 100-процентное владение ФГК и, возможно, расширение степени присутствия ФГК на рынке железнодорожных перевозок мы должны наладить модель эффективного управления вагонным парком вообще на всей инфраструктуре РЖД.
– У РЖД в рамках реформирования отрасли остались инфраструктура и локомотивная тяга. Реформа и Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года предполагали также появление частных перевозчиков на инфраструктуре. Тема частных инвестиций в этот бизнес и появление частников в этом сегменте недавно затрагивались Президентом РФ. Какая позиция у совета директоров РЖД по поводу либерализации рынка локомотивной тяги? Пришло ли время или стоит ещё подождать?
– Я не могу говорить о позиции совета директоров, потому что мы на совете этот вопрос не обсуждали. Могу сказать свою личную позицию. В собственности РЖД сейчас порядка 20 тыс. локомотивов, около 10 тыс. из которых непосредственно задействованы в грузовом и пассажирском движении. Изношенность парка составляет более 70%. Именно поэтому последние два года основной акцент нашей инвестиционной программы сделан на обновление локомотивной тяги. В либерализации локомотивов нет ничего страшного, но мы должны хорошо понимать, что за правильными словами о либерализации на выходе будет стоять покупка или строительство локомотивов силами операторских компаний для эксплуатации собственных поездных формирований на наиболее доходных маршрутах. Особенности существующей системы тарифного регулирования отрасли, сохранение системы перекрёстного субсидирования внутри грузовых перевозок позволят частникам выбирать наиболее прибыльные маршруты для перевозок, лишая тем самым РЖД источников для компенсации убытков от перевозки низкодоходных грузов. Поэтому либерализация сегмента локомотивной тяги приведёт к тому, что наиболее доходная часть бизнеса, связанная с локомотивной составляющей, уйдёт к частным операторам. Наименее доходная или даже, скажем, наиболее затратная останется внутри РЖД. В результате у операторов из этих 10 тыс. магистральных локомотивов окажется тысяча новеньких локомотивов, снимающих прибыль на наиболее доходных маршрутах, у РЖД – 9 тыс., на которых мы вынуждены будем осуществлять невыгодные нам плацкартные перевозки и возить грузы первого тарифного класса. Тем самым эффект снижения доходности РЖД будет только усугубляться. То есть частные компании не заберут убыточную деятельность, они соберут сливки. Тем самым проблему реновации локомотивов мы не решим, а повесим её на РЖД, забрав у монополии источники прибыли. Но тем не менее я считаю, что это не проблема либерализации или нелиберализации локомотивной тяги. Это проблема регулирования отрасли. Кроме того, если говорить о либерализации, то обязательно в увязке с вопросом квалификации и сертификации допуска частной техники и персонала на нашу инфраструктуру. Этот локомотив не по траве будет ездить, а по нашей инфраструктуре, ответственность за безопасность эксплуатации которой несёт РЖД.
– Целевая модель рынка до 2015 года предусматривала две схемы появления частных перевозчиков – «на маршруте» и «за маршрут». Какой предпочтение отдаёте вы?
– Это зависит от грузооборота. Если достаточный грузопоток, то «на маршруте». Если недостаточный, то «за маршрут». Это зависит от физики процесса. В основе всего груз и желание грузоотправителя переместить его из точки А в точку Б. Но эти точки имеют географическую привязку: в том случае, когда эта географическая привязка попадает на зону низкой пропускной способности, это означает, что не все желающие проедут из точки А в точку Б. Тем самым создаётся ограниченный ресурс. В эту систему координат нужно добавить третий фактор – фактор времени: то есть когда проедут все, но один проедет в течение недели, а другой – в течение месяца. Мы на сегодняшний день регулируем только тонно-километры из пункта А в пункт Б, но не регулируем дефицитность направления и скорость грузооборота. Это те составляющие, в которых, по моему мнению, лежит большой резерв РЖД в части повышения доходности, но при условии, если регулятор, преследуя антимонопольные идеалы, не будет продолжать нам это запрещать.
– РЖД по инициативе совета директоров, насколько мне известно, подготовили обновлённую стратегию компании. С чем связана именно сейчас её актуализация?
– Правильнее сказать, что нами, мной и Владимиром Ивановичем, была организована работа в режиме совместных совещаний с привлечением членов совета директоров, экспертного сообщества, профильных руководителей компании. У компании по ходу реформ не было чёткой стратегии. Для нас стратегией была сама реформа, реализация планов и постановлений правительства в части разделения конкурентной и монопольной сферы деятельности, и мы двигались в этом направлении. Прошло более 10 лет, появились первые результаты, о которых мы выше с вами поговорили, и перед РЖД встал ключевой вопрос – первый, второй и третий этапы реформы завершены, принято решение о продлении сроков реформирования отрасли на период до 2015 года и реализации Целевой модели рынка грузовых перевозок. Но что дальше? Вопрос о целевом состоянии РЖД остаётся открытым по сей день. РЖД – это казённое предприятие или акционерное общество? Если акционерное общество, то какие цели перед ним ставит его акционер? Что есть та целевая функция, которую мы оптимизируем? В чём наша миссия? Ответить на эти вопросы без понимания стратегии невозможно. Есть несколько подходов к стратегическому планированию. Мы избрали так называемый upside down. Сначала потратили большое количество времени на обсуждение с Владимиром Ивановичем и ключевыми членами правления миссии РЖД. Поспорили на эту тему, пришли к определённому консенсусу, разделили наши цели на пять основных блоков, или бизнес-функций, а потом запустили работу, которая полгода проводилась уже целенаправленно по отработке каждого из блоков: где наш рынок, чего мы хотим достигнуть, какими обладаем ресурсами, каких это потребует затрат, как оптимизировать эти затраты, как на выходе все эти пять блоков состыкуются друг с другом и какую могут дать синергию. Правление компании в июле рассмотрело и утвердило проект Стратегии РЖД на период до 2030 года. И сейчас мы планируем рассмотрение этой стратегии на совете директоров, после чего вынесем её на активное обсуждение профессиональной общественности и на рассмотрение Правительства РФ.
– Какие базовые принципы у стратегии? – Базовый принцип в развилке. Мы сейчас стоим на перекрёстке: можем поехать налево и тогда станем инфраструктурной компанией, как, например, «Транснефть», которая обеспечивает перемещение груза из точки А в точку Б. У нас есть железнодорожная инфраструктура и останется некоторая часть от общего парка локомотивов, и у нас есть система регулирования отрасли. Мы тогда содержим и эксплуатируем инфраструктуру, предоставляем совместно с частниками услуги тяги, а нам регулируют цены на наши услуги через систему тарифов. Это одно направление пути, которое, кстати, и заложено в логике модели реформы. Значит, тариф всегда регулируемый, денег всегда не хватает, потому что маржа в основном ушла частнику.
То есть либо мы накапливаем недофинансирование инфраструктуры, либо правительство активно наращивает объём субсидий или через вклад в уставный капитал продолжает дотировать деятельность РЖД там, где оно считает, что нужны новые направления или нужно повышать надёжность и объём перевозок. В этой модели роль регулятора колоссальная. По сути, он определяет, где, как, зачем и сколько строить. Это инфраструктурная модель. В мире есть много примеров чисто инфраструктурных компаний.
Второе направление – мы становимся транспортно-логистической компанией: к услуге перевозки добавляем большой набор услуг из конкурентного сектора экономики с высокой добавленной стоимостью. Так называемые функции 3PL- и 4PL-логистики. Тезис очень простой – груз, который надо переместить из точки А в точку Б, всё равно в какой-то момент окажется в транспортной цепочке у нас на железной дороге – в вагоне, может быть, не нашем, но на рельсах, которые точно наши, и с локомотивом, который, скорее всего, наш. Надо быть очень ленивым, чтобы не попытаться в этот момент продать дополнительные услуги и заработать дополнительные деньги. Мы можем и хотим это делать. Может быть, сегодня менталитет РЖД не в полной мере настроен на решение этих задач, но если мы утвердим это в качестве приоритетных целей и сделаем это своей стратегией, то необходимо будет перестраивать организационную модель управления РЖД, и появится новая модель мотивации персонала. Компания начнёт зарабатывать дополнительные деньги на дополнительных сервисах, непосредственно связанных с услугой перевозки. Это модель Deutsche Bahn AG и его 100-процентной «дочки» DB Shenker, которая на протяжении последних пяти лет показала свою операционную и экономическую эффективность. Есть сторонники того и другого пути, есть плюсы и минусы в той и другой модели, но большинство членов совета директоров и ключевых членов правления РЖД остановились на втором пути, на пути развития компании, которая способна оказывать гораздо больший объём услуг в транспортно-логистической сфере. То есть быть крупным игроком на внутреннем и международном рынках транспортно-логистических услуг. При этом эксплуатация инфраструктуры остаётсяся одной из важнейших сфер нашей деятельности.
– Вы в начале беседы уже затрагивали тему регулирования железнодорожной отрасли. Президент РЖД и топ-менеджмент компании не раз говорили, что модель тарифного регулирования устарела. Что, на ваш взгляд, стоит сделать, чтобы поменять эту систему?
– Я тоже считаю, что сегодняшняя модель тарифного регулирования в сфере железнодорожных перевозок безнадёжно устарела. В первую очередь нужно отказаться от принципа регулирования «затраты плюс». На эту тему написано много докторских работ во всём мире. Единственное, к чему стимулирует этот принцип, – к наращиванию затрат. Существует много апробированных моделей альтернативного регулирования. Мы, к сожалению, не пробуем эти модели и боимся их. Помимо этого, мы придумали достаточно условную матрицу, которую назвали Прейскурант 10-01. На сегодняшний день в нём заложено много противоречий перекрёстного субсидирования. Я столько искусственных искажений не встречал ни в одном экономическом документе правительства. Я уже говорил об этом выше: мы сегодня регулируем тонно-километры, но не регулируем дефицитность направлений, скорость оборота груза, уровень сервиса для клиента, простой вагонов и порожний пробег. Может быть, и не надо это всё регулировать, но тогда нужно дать компании право зарабатывать на дефицитности ресурса и скорости грузооборота. Можно и нужно контролировать, насколько мы это эффективно делаем. У нас есть сильное антимонопольное ведомство, которое точно нас поправит, если мы вдруг станем делать что-то не так.
– Тарифный коридор – достаточно ли это удобный механизм для РЖД? – Это была попытка регулятора придать несколько больше гибкости эклектичной модели тарифного регулирования отрасли. Поделиться частью ответственности с РЖД. К сожалению, даже то хорошее и правильное, что было заложено в идею изменения уровня тарифов в рамках ценовых пределов, было обременено столь большим количеством условий, что документ получился чрезвычайно трудным в плане практического применения. Итоговый эффект оказался очень слабым. Нужно устанавливать фиксированный тариф или предел не по принципу «затраты плюс», а давать нам полноценную возможность самим продавать дефицитный ресурс. Мы не можем создавать барьеры, но устраивать публичные аукционы за право проехать быстро или в первоочередном порядке, я считаю, это наше право. Мы должны на этом зарабатывать.
– В августе была утверждена методика долгосрочного регулирования тарифов РЖД, но буквально через некоторое время правительство выступило с инициативой заморозки тарифа в 2014 году. Получается, введение системы долгосрочного регулирования отодвигается? – Во-первых, я считаю, что методика долгосрочного регулирования, которая была представлена, не решает ни одну из задач. Это методика, которая немного добавляет теории в действующую модель. Она, по сути, носит индикативный характер. Рассчитанный на её основе индекс роста тарифа не является обязательным к применению. Окончательное решение всё равно будет принимать регулятор, исходя из собственного взгляда на все аспекты социально-экономического развития и степени влияния уровня железнодорожных тарифов на эти процессы. И самое главное – методика не стимулирует компанию повышать собственную эффективность! Так что не стоит чрезмерно обольщаться фактом принятия методики. Я сторонник более радикального пересмотра модели регулирования отрасли и всегда им был. Во-вторых, я хорошо понимаю логику принятия решения правительства о замораживании тарифов. Оно руководствовалось целью помочь реальному сектору экономики, потому что тарифная составляющая естественных монополий, по оценке ряда экономистов, является важным вкладом в индекс потребительских цен и себестоимость промышленной продукции. Но железнодорожный тариф сегодня точно не самый существенный фактор, ограничивающий рост национальной промышленности.
Кроме того, правительство заморозило только инфраструктурную составляющую в стоимости услуги по перевозке, но ещё есть и вагонная составляющая, и набор транспортно-логистических услуг, цена на которые определяется рынком. По факту произошло ограничение денежных средств, которые РЖД получат в своё распоряжение. Это ограничение приведёт к сокращению капитальных вложений, потому что для сокращения операционных затрат у любой естественной монополии есть большие резервы, но у РЖД размер условно постоянных затрат от изменения объёма грузооборота практически не зависит. Это означает, что наш маневр по сокращению операционных затрат небольшой и придётся оптимизировать капитальные затраты и повышать производственную эффективность. Конечно, компания будет это делать, но необходимо понимать, что результатом станет также сокращение объёмов заказов со стороны РЖД на приобретение металлургической и машиностроительной продукции у российских производителей. Поэтому решение о замораживании тарифов – это палка о двух концах. С одной стороны, мы подрезали вклад транспортной составляющей в себестоимость промышленной продукции, с другой – это тот объём заказа, который РЖД ранее размещали. Как результат: лечение известной болезни осуществляется не теми методами.
– Вы сказали, что являетесь сторонником более радикального пересмотра модели тарифного регулирования. О каких аспектах идёт речь? – Стоимость предоставления услуг инфраструктуры общего пользования всё равно придётся регулировать. Я бы пошёл по пути установления долгосрочных – не менее пяти лет – предельных уровней тарифов без индексации и с твёрдой гарантией, что пересматриваться это не будет ни при каких условиях. (Чего у нас, на моей памяти, не было никогда). Тем самым мы бы понимали свою экономику в пятилетнем горизонте. При этом имели бы не тариф от затрат с искусственно регулируемым уровнем рентабельности, а предельную планку, которую можем установить. То есть не можем подняться выше неё, но можем варьировать в диапазоне ниже предельного уровня. И в обязательном порядке я бы разрешил нам торговать скоростью и направлениями без какого-либо тарифного регулирования. Хочешь ехать быстрее или везти больше остальных в направлении с ограниченными возможностями инфраструктуры – плати больше. Если мы в конце концов за счёт продажи скорости или направления начнём что-то завышать или кого-то ограничивать, сразу увидим снижение грузооборота. А грузооборот играет для компании важнейшее значение. Поэтому мы рационально начнём варьировать этим параметром, чтобы оптимизировать объём грузооборота и повысить рентабельность.
– Предельный уровень – вы имеете в виду в рамках инфляции или это должен быть другой ориентир? – Это должен быть другой критерий. Например, расчёт нагрузки на те или иные сектора экономики. Инфляция, как таковая, хороший индикатор настроений в экономике и индекса потребительских цен, но с точки зрения платежеспособности грузоотправителя не отражает ничего.
– В ближайшее время планируется выносить инвестпрограмму РЖД на общественное обсуждение. Как в связи с этим могут измениться механизмы её принятия и не растянется ли это по времени?
– Мы будем слушать и учитывать общественное мнение, как всегда учитывали мнение правительства. РЖД – одна из немногих компаний, которая обсуждает и согласует свою инвестиционную программу в федеральных органах исполнительной власти и ежегодно докладывает её на правительстве. Для нас процедура общественных слушаний не нова, и затянуть процесс принятия инвестпрограммы это не может. Просто появится ещё один дополнительный фактор. Но в любом случае инвестпрограмма должна утверждаться до конца ноября, чтобы мы успели сформировать свои планы и контрактоваться.
– Но в инвестпрограмме РЖД есть данные, составляющие гостайну. Будет ли это тоже выноситься на общественное обсуждение? – Проекты, которые относятся к гостайне, составляют очень несущественную часть инвестиционной программы. В этой связи я не вижу проблемы с процедурой общественного обсуждения. Изъятия будут минимальны.
– Вы уже два года возглавляете совет директоров РЖД. Какие изменения произошли с момента вашего прихода и какие новшества вы внесли в его работу? – Мы изначально каждый год делали годом какого-то проекта для членов совета директоров. В первый год – с сентября 2011 года по июнь 2012 года включительно – нашим проектом была выработка принципов управления дочерними обществами и формирования инвестиционной программы. Совет директоров, комитеты совета директоров и менеджмент компании проделали в этих направлениях большую совместную работу. Мы классифицировали все дочерние общества по критериям: инвестиционные, операционные, общества на продажу. Ввели для них систему мониторинга определённых показателей. Сократили объём вопросов, выносимых на совет директоров, которые не существенны для операционных «дочек», но крайне важны для инвестиционных.
В части инвестиционной программы – классифицировали её по проектам, которые могут быть профинансированы на принципах проектного финансирования, проекты, приводящие к повышению надёжности и безопасности, и проекты, которые не имеют в себе коммерческой привлекательности, но нужны с точки зрения геополитического развития страны, которые могут в том числе субсидироваться за счёт государства. И по этой логике последние два года готовим нашу инвестпрограмму и представляем на рассмотрение правительства. С июля 2012-го по июль 2013 года нашим приоритетом была разработка актуализированной стратегии компании. Я считаю, что в прошлом году эта работа была хорошо проделана. Сейчас её надо завершать и фиксировать результаты. Если я буду переизбран в состав совета директоров на следующий год, то предложу членам совета директоров приоритетом 2013–2014 корпоративного года сделать разработку и утверждение новой системы мотивации и оплаты труда ключевых менеджеров РЖД.
– То есть KPI? – Шире, чем KPI. KPI – это один из элементов мотивации, индикатор для достижения определённых целей. Помимо этого есть более глубокие вещи. Такие, как капитализация РЖД, что сегодня пока не применимо для компании. Чистая прибыль, показатель, который мы оптимизируем не на уровне KPI конкретного менеджера, а на уровне корпорации. Скорость грузооборота. Та модель, которую мы для себя видим и обсуждаем, будет состоять из четырёх блоков. Дальше не хочу раскрывать. KPI – это всего лишь один из четырёх блоков. При этом невозможно было разработать эту систему, не имея стратегии, потому что система мотивации всегда является производной от стратегии и целей. В компании ранее уже была проделана большая работа в этом направлении. И, естественно, лучшие практики по мотивации персонала будут востребованы. Система вознаграждения является для нас сейчас важнейшим элементом повышения эффективности всей системы управления. Каждый должен понимать, зачем он ходит на работу, как оценивается размер его персонального вклада в результат компании и на каких принципах формируется размер его личного вознаграждения.
– Были ли на совете директоров такие ситуации, когда вы в корне были не согласны с директивами? – Один раз такая ситуация была. Я до последнего момента собирался голосовать против директивы, но за три часа до совета директоров получил информацию, что суть той проблемы, которую надо было одобрить директивным решением, была урегулирована между субъектами. И поскольку ни у кого не осталось никаких вопросов или претензий и были подписаны соответствующие документы, я проголосовал по директиве. Хотя если бы я увидел, что этого не произошло, то проголосовал бы против директивы и написал объяснительную с изложением мотивов и обстоятельств, непозволивших мне поступить иначе.
– Судя по составляющим, которые вы дали в описании ситуации, это была история с продажей 25% акций ПГК, когда АФК «Система» была не согласна с итогами продажи? – Без комментариев.
– Вы также занимаете пост главы совета директоров «Аэрофлота». Не мешает ли вам это в принятии решений, учитывая, что в сфере пассажирских перевозок они являются конкурентами? – До последнего времени не мешало, потому что РЖД и «Аэрофлот» нигде не конкурируют. Даже на самом оживлённом маршруте Москва – Санкт-Петербург у нас ежедневно 22 авиарейса и 7 пар поездов «Сапсан», не считая ночных поездов. Они все заполнены. Средняя заполняемость рейса в «Аэрофлоте» на этом направлении 80%, в «Сапсане» – ещё выше. Здесь нет конкуренции, здесь есть очень большой пассажиропоток. Пассажир всегда выбирает скорее из критерия географического удобства, в зависимости от места, где ему нужно оказаться в Петербурге или Москве – в центре или в пригороде. Выбор происходит из-за географии, а не из-за скорости или качества услуг. Они сопоставимы. Других направлений, где бы мы конкурировали, сейчас нет. Почему я сказал: до последнего времени... На прошлой неделе «Аэрофлот» анонсировал старт проекта собственного лоукостера – проект «Добролет». Он будет конкурировать на восьми направлениях с ценой билета в купейном вагоне 100-процентной «дочки» РЖД – ОАО «Федеральная пассажирская компания». Я считаю, что на этапе запуска проекта от этой конкуренции выиграет только пассажир и в этих масштабах конкуренции никто не проиграет – ни РЖД, ни «Аэрофлот». Конкуренция всегда нас стимулирует быть более эффективными. По мере роста и развития проекта «Добролет», по результатам первого года его операционной работы, в 2014–2015 годах, нужно будет сделать оценку, и тогда мне самому задать себе вопрос: не вижу ли я конфликта интересов? До конца следующего года я его объективно не увижу.
– А если увидите? – Тогда мне придётся от одного или другого совета отказаться. Чем буду руководствоваться при выборе? Я бы хотел остаться в совете директоров той компании, где масштабность задач, требующих вовлечённости, будет больше. Но останусь там, где решат наши акционеры – Правительство России и Росимущество.
– Кирилл Геннадьевич, когда вам предложили стать председателем совета директоров РЖД, вы долго думали?
– Я думал. Я прекрасно понимал, что РЖД будут занимать очень большое количество моего времени, которое я решил посвятить развитию собственного бизнеса. Для меня это был не простой выбор. Но масштаб задачи был настолько интересен, что я поблагодарил за это предложение и согласился.
– Насколько быстро вам удалось вникнуть в проблемы отрасли?
– РЖД – это государство в государстве, если хотите, скелет, на котором строится вся наша добывающая и перерабатывающая промышленность. Мне было чуть проще вникнуть, потому что на посту заместителя министра экономики я курировал сферу железнодорожной реформы и на должности заместителя руководителя аппарата Правительства России курировал в том числе и транспортную отрасль. Поэтому ещё помнил, что задумывалось в начале реформы.
– Как вы оцениваете ход реформирования железнодорожной отрасли? Может быть, смотря на те результаты, которые есть, стоит подкорректировать какие-то моменты?
– Сейчас видны самые важные результаты реформы, и можно говорить, что большая часть из тех задач, которые правительство ставило, достигнуто. Цель реформы любой естественной монополии сводится к одному тезису – разделение монопольного и конкурентного видов бизнесов.
Это делается для того, чтобы в конкурентном сегменте появлялись новые игроки и стимулы к росту, повышению качества и снижению себестоимости. Конкуренция – за многие годы мир не придумал ничего лучше этого инструмента для повышения эффективности. В этом была и есть логика реформы.
Таким образом, на сегодняшний день точно два сегмента конкурентного вида деятельности выделено из естественной монополии РЖД. Это операторский бизнес с вагонами для перевозки грузов и машиностроительный сегмент, связанный с производством, ремонтом и обслуживанием всего спектра продукции транспортного машиностроения, которая необходима для функционирования системы РЖД. По моему мнению, в этих секторах основные цели достигнуты: в этих двух сегментах сформировано много частных игроков, каждый из которых всячески стремится оптимизировать свою деятельность, решён вопрос обеспечения притока необходимых инвестиций и, как следствие, обеспечены условия для дальнейшего технологического развития. Я думаю, что одним из основных итогов реформы, в части создания рынка независимых операторов подвижного состава, стало снижение ставок на вагоны, которое наблюдается на протяжении последнего полугода. В конечном счёте, от этого выиграли наши грузоотправители в масштабе всей страны.
Есть обратная сторона реформы. Мы выделили конкурентные сферы из структуры РЖД. Но вместе с этим мы выделили наиболее маржинально доходные сегменты. Машиностроение, вагонный парк и сопутствующий сервис способны работать на внешний рынок и не ограничены только инфраструктурой. Таким образом, внутри РЖД в основном остался только регулируемый сегмент – инфраструктура и локомотивы. Мы стали по структуре своих активов, но не по сути, инфраструктурной компанией. А во всём мире любая инфраструктурная компания регулируется. Есть регулятор в лице тех или иных органов исполнительной власти, который определяет стоимость наших основных услуг. Поскольку регулятор живёт в логике модели регулирования «затраты плюс», то размер прибыли, которую мы имеем право заработать на эксплуатации инфраструктуры, очень жёстко ограничен. Это означает, что РЖД существенно потеряли в доходности и постепенно превращаются в чисто инфраструктурную компанию.
Мы поставили перед собой и федеральными органами вопрос: какой должна быть новая модель нашего развития, что собой представляет продукт и услуга, которые оказываем, на чём способны зарабатывать, чтобы обеспечивать растущие потребности рынка в объёме и качестве услуг и собственные потребности в капитальных вложениях.
– У нас (агентство «ПРАЙМ». – Ред.) было интервью с президентом РЖД Владимиром Якуниным. Там также поднимали вопрос о реформе. Говоря о том, что можно было бы сделать по-другому, он высказал мнение, что стоило бы оставить у РЖД до 30% парка полувагонов. Как вы считаете, с этой точки зрения стоит обновить какие-то моменты реформы?
– Я не хотел бы через интервью вступать в заочную дискуссию с Владимиром Ивановичем. У нас есть масса возможностей делать это лично, в открытом диалоге. Касательно самой идеи передачи РЖД как публичному перевозчику на том или ином праве существенной части вагонного парка, а мы говорим в первую очередь об универсальном парке – парке полувагонов, хочу высказать следующее. В нашей 100-процентной собственности сохраняется ОАО «Федеральная грузовая компания», а это почти треть всего российского парка полувагонов, что, по моему мнению, позволяет через прямое управление ФГК решать задачи повышения эффективности организации перевозочного процесса.
Будут ли эти вагоны в аренде, собственности или на другом праве у РЖД – не так важно, как модель управления этим вагонным парком. Я считаю, что сохранение сегодня ФГК в собственности РЖД как минимум в среднесрочном горизонте правильное решение. Через 100-процентное владение ФГК и, возможно, расширение степени присутствия ФГК на рынке железнодорожных перевозок мы должны наладить модель эффективного управления вагонным парком вообще на всей инфраструктуре РЖД.
– У РЖД в рамках реформирования отрасли остались инфраструктура и локомотивная тяга. Реформа и Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года предполагали также появление частных перевозчиков на инфраструктуре. Тема частных инвестиций в этот бизнес и появление частников в этом сегменте недавно затрагивались Президентом РФ. Какая позиция у совета директоров РЖД по поводу либерализации рынка локомотивной тяги? Пришло ли время или стоит ещё подождать?
– Я не могу говорить о позиции совета директоров, потому что мы на совете этот вопрос не обсуждали. Могу сказать свою личную позицию. В собственности РЖД сейчас порядка 20 тыс. локомотивов, около 10 тыс. из которых непосредственно задействованы в грузовом и пассажирском движении. Изношенность парка составляет более 70%. Именно поэтому последние два года основной акцент нашей инвестиционной программы сделан на обновление локомотивной тяги. В либерализации локомотивов нет ничего страшного, но мы должны хорошо понимать, что за правильными словами о либерализации на выходе будет стоять покупка или строительство локомотивов силами операторских компаний для эксплуатации собственных поездных формирований на наиболее доходных маршрутах. Особенности существующей системы тарифного регулирования отрасли, сохранение системы перекрёстного субсидирования внутри грузовых перевозок позволят частникам выбирать наиболее прибыльные маршруты для перевозок, лишая тем самым РЖД источников для компенсации убытков от перевозки низкодоходных грузов. Поэтому либерализация сегмента локомотивной тяги приведёт к тому, что наиболее доходная часть бизнеса, связанная с локомотивной составляющей, уйдёт к частным операторам. Наименее доходная или даже, скажем, наиболее затратная останется внутри РЖД. В результате у операторов из этих 10 тыс. магистральных локомотивов окажется тысяча новеньких локомотивов, снимающих прибыль на наиболее доходных маршрутах, у РЖД – 9 тыс., на которых мы вынуждены будем осуществлять невыгодные нам плацкартные перевозки и возить грузы первого тарифного класса. Тем самым эффект снижения доходности РЖД будет только усугубляться. То есть частные компании не заберут убыточную деятельность, они соберут сливки. Тем самым проблему реновации локомотивов мы не решим, а повесим её на РЖД, забрав у монополии источники прибыли. Но тем не менее я считаю, что это не проблема либерализации или нелиберализации локомотивной тяги. Это проблема регулирования отрасли. Кроме того, если говорить о либерализации, то обязательно в увязке с вопросом квалификации и сертификации допуска частной техники и персонала на нашу инфраструктуру. Этот локомотив не по траве будет ездить, а по нашей инфраструктуре, ответственность за безопасность эксплуатации которой несёт РЖД.
– Целевая модель рынка до 2015 года предусматривала две схемы появления частных перевозчиков – «на маршруте» и «за маршрут». Какой предпочтение отдаёте вы?
– Это зависит от грузооборота. Если достаточный грузопоток, то «на маршруте». Если недостаточный, то «за маршрут». Это зависит от физики процесса. В основе всего груз и желание грузоотправителя переместить его из точки А в точку Б. Но эти точки имеют географическую привязку: в том случае, когда эта географическая привязка попадает на зону низкой пропускной способности, это означает, что не все желающие проедут из точки А в точку Б. Тем самым создаётся ограниченный ресурс. В эту систему координат нужно добавить третий фактор – фактор времени: то есть когда проедут все, но один проедет в течение недели, а другой – в течение месяца. Мы на сегодняшний день регулируем только тонно-километры из пункта А в пункт Б, но не регулируем дефицитность направления и скорость грузооборота. Это те составляющие, в которых, по моему мнению, лежит большой резерв РЖД в части повышения доходности, но при условии, если регулятор, преследуя антимонопольные идеалы, не будет продолжать нам это запрещать.
– РЖД по инициативе совета директоров, насколько мне известно, подготовили обновлённую стратегию компании. С чем связана именно сейчас её актуализация?
– Правильнее сказать, что нами, мной и Владимиром Ивановичем, была организована работа в режиме совместных совещаний с привлечением членов совета директоров, экспертного сообщества, профильных руководителей компании. У компании по ходу реформ не было чёткой стратегии. Для нас стратегией была сама реформа, реализация планов и постановлений правительства в части разделения конкурентной и монопольной сферы деятельности, и мы двигались в этом направлении. Прошло более 10 лет, появились первые результаты, о которых мы выше с вами поговорили, и перед РЖД встал ключевой вопрос – первый, второй и третий этапы реформы завершены, принято решение о продлении сроков реформирования отрасли на период до 2015 года и реализации Целевой модели рынка грузовых перевозок. Но что дальше? Вопрос о целевом состоянии РЖД остаётся открытым по сей день. РЖД – это казённое предприятие или акционерное общество? Если акционерное общество, то какие цели перед ним ставит его акционер? Что есть та целевая функция, которую мы оптимизируем? В чём наша миссия? Ответить на эти вопросы без понимания стратегии невозможно. Есть несколько подходов к стратегическому планированию. Мы избрали так называемый upside down. Сначала потратили большое количество времени на обсуждение с Владимиром Ивановичем и ключевыми членами правления миссии РЖД. Поспорили на эту тему, пришли к определённому консенсусу, разделили наши цели на пять основных блоков, или бизнес-функций, а потом запустили работу, которая полгода проводилась уже целенаправленно по отработке каждого из блоков: где наш рынок, чего мы хотим достигнуть, какими обладаем ресурсами, каких это потребует затрат, как оптимизировать эти затраты, как на выходе все эти пять блоков состыкуются друг с другом и какую могут дать синергию. Правление компании в июле рассмотрело и утвердило проект Стратегии РЖД на период до 2030 года. И сейчас мы планируем рассмотрение этой стратегии на совете директоров, после чего вынесем её на активное обсуждение профессиональной общественности и на рассмотрение Правительства РФ.
– Какие базовые принципы у стратегии? – Базовый принцип в развилке. Мы сейчас стоим на перекрёстке: можем поехать налево и тогда станем инфраструктурной компанией, как, например, «Транснефть», которая обеспечивает перемещение груза из точки А в точку Б. У нас есть железнодорожная инфраструктура и останется некоторая часть от общего парка локомотивов, и у нас есть система регулирования отрасли. Мы тогда содержим и эксплуатируем инфраструктуру, предоставляем совместно с частниками услуги тяги, а нам регулируют цены на наши услуги через систему тарифов. Это одно направление пути, которое, кстати, и заложено в логике модели реформы. Значит, тариф всегда регулируемый, денег всегда не хватает, потому что маржа в основном ушла частнику.
То есть либо мы накапливаем недофинансирование инфраструктуры, либо правительство активно наращивает объём субсидий или через вклад в уставный капитал продолжает дотировать деятельность РЖД там, где оно считает, что нужны новые направления или нужно повышать надёжность и объём перевозок. В этой модели роль регулятора колоссальная. По сути, он определяет, где, как, зачем и сколько строить. Это инфраструктурная модель. В мире есть много примеров чисто инфраструктурных компаний.
Второе направление – мы становимся транспортно-логистической компанией: к услуге перевозки добавляем большой набор услуг из конкурентного сектора экономики с высокой добавленной стоимостью. Так называемые функции 3PL- и 4PL-логистики. Тезис очень простой – груз, который надо переместить из точки А в точку Б, всё равно в какой-то момент окажется в транспортной цепочке у нас на железной дороге – в вагоне, может быть, не нашем, но на рельсах, которые точно наши, и с локомотивом, который, скорее всего, наш. Надо быть очень ленивым, чтобы не попытаться в этот момент продать дополнительные услуги и заработать дополнительные деньги. Мы можем и хотим это делать. Может быть, сегодня менталитет РЖД не в полной мере настроен на решение этих задач, но если мы утвердим это в качестве приоритетных целей и сделаем это своей стратегией, то необходимо будет перестраивать организационную модель управления РЖД, и появится новая модель мотивации персонала. Компания начнёт зарабатывать дополнительные деньги на дополнительных сервисах, непосредственно связанных с услугой перевозки. Это модель Deutsche Bahn AG и его 100-процентной «дочки» DB Shenker, которая на протяжении последних пяти лет показала свою операционную и экономическую эффективность. Есть сторонники того и другого пути, есть плюсы и минусы в той и другой модели, но большинство членов совета директоров и ключевых членов правления РЖД остановились на втором пути, на пути развития компании, которая способна оказывать гораздо больший объём услуг в транспортно-логистической сфере. То есть быть крупным игроком на внутреннем и международном рынках транспортно-логистических услуг. При этом эксплуатация инфраструктуры остаётсяся одной из важнейших сфер нашей деятельности.
– Вы в начале беседы уже затрагивали тему регулирования железнодорожной отрасли. Президент РЖД и топ-менеджмент компании не раз говорили, что модель тарифного регулирования устарела. Что, на ваш взгляд, стоит сделать, чтобы поменять эту систему?
– Я тоже считаю, что сегодняшняя модель тарифного регулирования в сфере железнодорожных перевозок безнадёжно устарела. В первую очередь нужно отказаться от принципа регулирования «затраты плюс». На эту тему написано много докторских работ во всём мире. Единственное, к чему стимулирует этот принцип, – к наращиванию затрат. Существует много апробированных моделей альтернативного регулирования. Мы, к сожалению, не пробуем эти модели и боимся их. Помимо этого, мы придумали достаточно условную матрицу, которую назвали Прейскурант 10-01. На сегодняшний день в нём заложено много противоречий перекрёстного субсидирования. Я столько искусственных искажений не встречал ни в одном экономическом документе правительства. Я уже говорил об этом выше: мы сегодня регулируем тонно-километры, но не регулируем дефицитность направлений, скорость оборота груза, уровень сервиса для клиента, простой вагонов и порожний пробег. Может быть, и не надо это всё регулировать, но тогда нужно дать компании право зарабатывать на дефицитности ресурса и скорости грузооборота. Можно и нужно контролировать, насколько мы это эффективно делаем. У нас есть сильное антимонопольное ведомство, которое точно нас поправит, если мы вдруг станем делать что-то не так.
– Тарифный коридор – достаточно ли это удобный механизм для РЖД? – Это была попытка регулятора придать несколько больше гибкости эклектичной модели тарифного регулирования отрасли. Поделиться частью ответственности с РЖД. К сожалению, даже то хорошее и правильное, что было заложено в идею изменения уровня тарифов в рамках ценовых пределов, было обременено столь большим количеством условий, что документ получился чрезвычайно трудным в плане практического применения. Итоговый эффект оказался очень слабым. Нужно устанавливать фиксированный тариф или предел не по принципу «затраты плюс», а давать нам полноценную возможность самим продавать дефицитный ресурс. Мы не можем создавать барьеры, но устраивать публичные аукционы за право проехать быстро или в первоочередном порядке, я считаю, это наше право. Мы должны на этом зарабатывать.
– В августе была утверждена методика долгосрочного регулирования тарифов РЖД, но буквально через некоторое время правительство выступило с инициативой заморозки тарифа в 2014 году. Получается, введение системы долгосрочного регулирования отодвигается? – Во-первых, я считаю, что методика долгосрочного регулирования, которая была представлена, не решает ни одну из задач. Это методика, которая немного добавляет теории в действующую модель. Она, по сути, носит индикативный характер. Рассчитанный на её основе индекс роста тарифа не является обязательным к применению. Окончательное решение всё равно будет принимать регулятор, исходя из собственного взгляда на все аспекты социально-экономического развития и степени влияния уровня железнодорожных тарифов на эти процессы. И самое главное – методика не стимулирует компанию повышать собственную эффективность! Так что не стоит чрезмерно обольщаться фактом принятия методики. Я сторонник более радикального пересмотра модели регулирования отрасли и всегда им был. Во-вторых, я хорошо понимаю логику принятия решения правительства о замораживании тарифов. Оно руководствовалось целью помочь реальному сектору экономики, потому что тарифная составляющая естественных монополий, по оценке ряда экономистов, является важным вкладом в индекс потребительских цен и себестоимость промышленной продукции. Но железнодорожный тариф сегодня точно не самый существенный фактор, ограничивающий рост национальной промышленности.
Кроме того, правительство заморозило только инфраструктурную составляющую в стоимости услуги по перевозке, но ещё есть и вагонная составляющая, и набор транспортно-логистических услуг, цена на которые определяется рынком. По факту произошло ограничение денежных средств, которые РЖД получат в своё распоряжение. Это ограничение приведёт к сокращению капитальных вложений, потому что для сокращения операционных затрат у любой естественной монополии есть большие резервы, но у РЖД размер условно постоянных затрат от изменения объёма грузооборота практически не зависит. Это означает, что наш маневр по сокращению операционных затрат небольшой и придётся оптимизировать капитальные затраты и повышать производственную эффективность. Конечно, компания будет это делать, но необходимо понимать, что результатом станет также сокращение объёмов заказов со стороны РЖД на приобретение металлургической и машиностроительной продукции у российских производителей. Поэтому решение о замораживании тарифов – это палка о двух концах. С одной стороны, мы подрезали вклад транспортной составляющей в себестоимость промышленной продукции, с другой – это тот объём заказа, который РЖД ранее размещали. Как результат: лечение известной болезни осуществляется не теми методами.
– Вы сказали, что являетесь сторонником более радикального пересмотра модели тарифного регулирования. О каких аспектах идёт речь? – Стоимость предоставления услуг инфраструктуры общего пользования всё равно придётся регулировать. Я бы пошёл по пути установления долгосрочных – не менее пяти лет – предельных уровней тарифов без индексации и с твёрдой гарантией, что пересматриваться это не будет ни при каких условиях. (Чего у нас, на моей памяти, не было никогда). Тем самым мы бы понимали свою экономику в пятилетнем горизонте. При этом имели бы не тариф от затрат с искусственно регулируемым уровнем рентабельности, а предельную планку, которую можем установить. То есть не можем подняться выше неё, но можем варьировать в диапазоне ниже предельного уровня. И в обязательном порядке я бы разрешил нам торговать скоростью и направлениями без какого-либо тарифного регулирования. Хочешь ехать быстрее или везти больше остальных в направлении с ограниченными возможностями инфраструктуры – плати больше. Если мы в конце концов за счёт продажи скорости или направления начнём что-то завышать или кого-то ограничивать, сразу увидим снижение грузооборота. А грузооборот играет для компании важнейшее значение. Поэтому мы рационально начнём варьировать этим параметром, чтобы оптимизировать объём грузооборота и повысить рентабельность.
– Предельный уровень – вы имеете в виду в рамках инфляции или это должен быть другой ориентир? – Это должен быть другой критерий. Например, расчёт нагрузки на те или иные сектора экономики. Инфляция, как таковая, хороший индикатор настроений в экономике и индекса потребительских цен, но с точки зрения платежеспособности грузоотправителя не отражает ничего.
– В ближайшее время планируется выносить инвестпрограмму РЖД на общественное обсуждение. Как в связи с этим могут измениться механизмы её принятия и не растянется ли это по времени?
– Мы будем слушать и учитывать общественное мнение, как всегда учитывали мнение правительства. РЖД – одна из немногих компаний, которая обсуждает и согласует свою инвестиционную программу в федеральных органах исполнительной власти и ежегодно докладывает её на правительстве. Для нас процедура общественных слушаний не нова, и затянуть процесс принятия инвестпрограммы это не может. Просто появится ещё один дополнительный фактор. Но в любом случае инвестпрограмма должна утверждаться до конца ноября, чтобы мы успели сформировать свои планы и контрактоваться.
– Но в инвестпрограмме РЖД есть данные, составляющие гостайну. Будет ли это тоже выноситься на общественное обсуждение? – Проекты, которые относятся к гостайне, составляют очень несущественную часть инвестиционной программы. В этой связи я не вижу проблемы с процедурой общественного обсуждения. Изъятия будут минимальны.
– Вы уже два года возглавляете совет директоров РЖД. Какие изменения произошли с момента вашего прихода и какие новшества вы внесли в его работу? – Мы изначально каждый год делали годом какого-то проекта для членов совета директоров. В первый год – с сентября 2011 года по июнь 2012 года включительно – нашим проектом была выработка принципов управления дочерними обществами и формирования инвестиционной программы. Совет директоров, комитеты совета директоров и менеджмент компании проделали в этих направлениях большую совместную работу. Мы классифицировали все дочерние общества по критериям: инвестиционные, операционные, общества на продажу. Ввели для них систему мониторинга определённых показателей. Сократили объём вопросов, выносимых на совет директоров, которые не существенны для операционных «дочек», но крайне важны для инвестиционных.
В части инвестиционной программы – классифицировали её по проектам, которые могут быть профинансированы на принципах проектного финансирования, проекты, приводящие к повышению надёжности и безопасности, и проекты, которые не имеют в себе коммерческой привлекательности, но нужны с точки зрения геополитического развития страны, которые могут в том числе субсидироваться за счёт государства. И по этой логике последние два года готовим нашу инвестпрограмму и представляем на рассмотрение правительства. С июля 2012-го по июль 2013 года нашим приоритетом была разработка актуализированной стратегии компании. Я считаю, что в прошлом году эта работа была хорошо проделана. Сейчас её надо завершать и фиксировать результаты. Если я буду переизбран в состав совета директоров на следующий год, то предложу членам совета директоров приоритетом 2013–2014 корпоративного года сделать разработку и утверждение новой системы мотивации и оплаты труда ключевых менеджеров РЖД.
– То есть KPI? – Шире, чем KPI. KPI – это один из элементов мотивации, индикатор для достижения определённых целей. Помимо этого есть более глубокие вещи. Такие, как капитализация РЖД, что сегодня пока не применимо для компании. Чистая прибыль, показатель, который мы оптимизируем не на уровне KPI конкретного менеджера, а на уровне корпорации. Скорость грузооборота. Та модель, которую мы для себя видим и обсуждаем, будет состоять из четырёх блоков. Дальше не хочу раскрывать. KPI – это всего лишь один из четырёх блоков. При этом невозможно было разработать эту систему, не имея стратегии, потому что система мотивации всегда является производной от стратегии и целей. В компании ранее уже была проделана большая работа в этом направлении. И, естественно, лучшие практики по мотивации персонала будут востребованы. Система вознаграждения является для нас сейчас важнейшим элементом повышения эффективности всей системы управления. Каждый должен понимать, зачем он ходит на работу, как оценивается размер его персонального вклада в результат компании и на каких принципах формируется размер его личного вознаграждения.
– Были ли на совете директоров такие ситуации, когда вы в корне были не согласны с директивами? – Один раз такая ситуация была. Я до последнего момента собирался голосовать против директивы, но за три часа до совета директоров получил информацию, что суть той проблемы, которую надо было одобрить директивным решением, была урегулирована между субъектами. И поскольку ни у кого не осталось никаких вопросов или претензий и были подписаны соответствующие документы, я проголосовал по директиве. Хотя если бы я увидел, что этого не произошло, то проголосовал бы против директивы и написал объяснительную с изложением мотивов и обстоятельств, непозволивших мне поступить иначе.
– Судя по составляющим, которые вы дали в описании ситуации, это была история с продажей 25% акций ПГК, когда АФК «Система» была не согласна с итогами продажи? – Без комментариев.
– Вы также занимаете пост главы совета директоров «Аэрофлота». Не мешает ли вам это в принятии решений, учитывая, что в сфере пассажирских перевозок они являются конкурентами? – До последнего времени не мешало, потому что РЖД и «Аэрофлот» нигде не конкурируют. Даже на самом оживлённом маршруте Москва – Санкт-Петербург у нас ежедневно 22 авиарейса и 7 пар поездов «Сапсан», не считая ночных поездов. Они все заполнены. Средняя заполняемость рейса в «Аэрофлоте» на этом направлении 80%, в «Сапсане» – ещё выше. Здесь нет конкуренции, здесь есть очень большой пассажиропоток. Пассажир всегда выбирает скорее из критерия географического удобства, в зависимости от места, где ему нужно оказаться в Петербурге или Москве – в центре или в пригороде. Выбор происходит из-за географии, а не из-за скорости или качества услуг. Они сопоставимы. Других направлений, где бы мы конкурировали, сейчас нет. Почему я сказал: до последнего времени... На прошлой неделе «Аэрофлот» анонсировал старт проекта собственного лоукостера – проект «Добролет». Он будет конкурировать на восьми направлениях с ценой билета в купейном вагоне 100-процентной «дочки» РЖД – ОАО «Федеральная пассажирская компания». Я считаю, что на этапе запуска проекта от этой конкуренции выиграет только пассажир и в этих масштабах конкуренции никто не проиграет – ни РЖД, ни «Аэрофлот». Конкуренция всегда нас стимулирует быть более эффективными. По мере роста и развития проекта «Добролет», по результатам первого года его операционной работы, в 2014–2015 годах, нужно будет сделать оценку, и тогда мне самому задать себе вопрос: не вижу ли я конфликта интересов? До конца следующего года я его объективно не увижу.
– А если увидите? – Тогда мне придётся от одного или другого совета отказаться. Чем буду руководствоваться при выборе? Я бы хотел остаться в совете директоров той компании, где масштабность задач, требующих вовлечённости, будет больше. Но останусь там, где решат наши акционеры – Правительство России и Росимущество.
Дата: 25.10.2013
Автор текста: Надежда Фролова
Автор фото: whoiswho.dp.ru
Источник: http://www.gudok.ru/
Поделитесь страницей "Конкуренция – лучший инструмент повышения эффективности" в Социальных сетях
Новые компании
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.4/2
Телефон
+7(812)715-54-27, +7(812)740-76-37
Адрес
Юридический адрес: 117420, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черемушки, ул. Профсоюзная, д.57, этаж 4, помещ. III ком. 98, офис 427А. Адрес производства: 454007, Россия, Челябинск, пр. Ленина, 2б
Телефон
+7 (351) 239-90-31
Адрес
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 2
Телефон
+7(812)436-48-79, 8 800 550 33 79
Все компании